Книгу Улицкой Зеленый Шатер
Подборки: «Рассмотрим самиздат. Явление это само по себе потрясающее и небывалое. Это живая энергия, которая распространяется от источника к источнику, и протягиваются нити, и образовывается своего рода паутина между людьми.
Такие воздуховоды, по которым идет информация в виде книг, журналов, перепечатанных стихов, очень старых и очень новых, последних номеров самиздатской «Хроники». » Людмилу Улицкую не раз называли очень внимательным свидетелем эпохи, ее цепким наблюдателем и интерпретатором.
Купить и скачать, читать онлайн Зеленый шатер автора Улицкая Людмила Евгеньевна. Feb 9, 2011 - Людмила Улицкая провела в Москве во вторник творческий вечер, на котором представила 'Зеленый шатер - книгу-предупреждение. Читай онлайн книгу «Зеленый шатер», Людмилы Улицкой на сайте или через приложение ЛитРес «Читай». 102 рецензии на книгу «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой. Прочитано в рамках Новогоднего.
Пожалуй, более всего это относится к роману «Зеленый шатер». Роману о поколении тех, кому выпало взрослеть во времена оттепели, выбирать судьбу в шестидесятые, платить по счетам в семидесятые и далее как получится, у всех по-разному. Калейдоскоп судеб от смерти Сталина до смерти Бродского, хор голосов и сольные партии, переплетение исторических реалий и художественного вымысла Обо всём этом и не только в книге Зеленый шатер (Людмила Улицкая). Я читала всё написанное Людмилой Улицкой к сегодняшнему дню и отношусь к этому автору с большим уважением, поэтому с энтузиазмом купила ее новый роман «Зеленый Шатер», который обьясняет ту паузу в несколько лет, в течении которых ничего нового не выходило из-под ее пера. Сразу же погрузилась в этот бурный поток переплетающихся судеб главных героев и всех проходящих персонажей, история которых « необходимо должна быть рассказана» - несколько странный, на мой взгляд, авторский оборот или ошибка.
В начале романа автор возвращается к описанию дня похорон Сталина, очень достоверно и жестко описывая этот страшный день, когда в давке погибли тысячи людей – этот же день автор описывала в романе «Казус Кукоцкого». Читатель проживает его вместе с основными героями – трое подруг и трое друзей, типичных для поколения, родившегося во время или сразу после войны. Роман ведет нас по жизненному вектру этих людей, при этом вне хронологического порядка, выхватывая важные жизненные перекрестки и вехи.
Скачать Книгу Улицкой Зеленый Шатер Бесплатно
Один из важнейших персонажей – школьных учитель литературы в классе наших героев. Талантливый педагог, он пришел к пониманию, что существует некая «нравственная инициация», которую проходят мальчики от одиннадцати до четырнадцати лет и которую пробуждает некое «переворачивающее душу, пробуждающее ее событие» - «несчастье или неблагополучная семейная жизнь, унижение достоинства личного или достоинства близких людей, потеря родного человека». Автор отмечает, что во многих обществах существуют ритуалы, соответствующие этому переходу «от детства во взрослое состояние, в то время как мир атеистический полностью утратил этот важнейший механизм». Проводя аналогию с животным миром, стадия взрослого существа называется «имаго» - для человека она недостижима без такой инициации, где критерии «взрослости» – «ответственность за свои поступки, самостоятельность, степень осознанности».
Неслучайно, глава, в которой один из героев принял важнейшее и труднейшее в своей жизни решение, озаглавлена «Имаго». Однако в природе существует явление неотении, когда «не доросшие до взрослого состояния существа плодят себе подобных личинок, так никогда и не превратясь во взрослых».На мой взгляд, ключевая фраза всего романа – « мы живем в обществе личинок, невыросших людей, подростков, закамуфлированных под взрослых».
Должностные обязанности. Mar 20, 2018 - ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ведущего специалиста организационного отдела Исполнительного комитета Чистопольского.
Эта идея, на мой взгляд, очень интересна и проецируя ее на сегодняшнее поколение, наводит на многие размышления: продолжаем ли мы быть обществом личинок в смысле того, что нравственность отодвинута на дальний план личной выгодой или наоборот, в наше время, для выживания необходимо рассчитывать только на себя, полностью осознавать происходящее, и полную свою ответственность за себя и близких? К сожалению, далее к этой идее автор не возвращается, а повествует об основных событиях в жизни всех героев, даже тех, кто по касательной проходит в жизни основных персонажей.
И на мой взгляд, более всего это повествование напоминает обыкновенный женский треп за чашкой чая, когда обсуждаются знакомые, знакомые знакомых и их троюродные родственники, в жизни которых происходят удивительные события: у тех-то родились дети, тот бросил эту, эта бросила того изменив ему с тем, эти уехали всей семьей в Израиль, эта заболела какой-то хворью, врачи не могли понять какой, но ее вылечила знахарка и т.д. В романе почти нет лирических отступлений, ни описания природы, ни каких-то отвлеченных размышлений: предельно насыщенное описание событий, происходящих с героями. Диссидентство, самиздат, движение за возвращение крымских татар, переправка запрещенной литературы и фотоархивов за границу, тень товарищей «в сером», которые неотступно следят за всеми действиями и даже помыслами героев – все это основной фон жизни этого поколения, на котором разворачиваются бытовые и семейные драмы. Как и почти всегда у этого автора, в романе есть линия женского психического расстройства, дети-инвалиды и олигофрены, частая тема эмиграции. Для Людмилы Улицкой характерно обостренно драматическое восприятие жизни, но иногда создается впечатление некоего конструктора с набором обязательных персонажей, из которых складывается население ее книг. Рискну сказать, что и характеры основных героев в этом романе часто слишком противоречивы или недостаточно раскрыты, я не смогла в них поверить и сопереживать им. Возможно, меня не зацепил этот роман прежде всего потому, что поколение это не мое да и страна тоже другая: это поколение моих родителей и хоть я, конечно, застала отголоски того, что описывается в книге, этот пыльный советский ящик, окруженный железным занавесом уже давно открыт и выпущены на свободу все его джинны.
Oct 15, 2013 - Windows 8.1 Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT. Произвести активацию системы при помощи собственного ключа от Windows. Aug 14, 2017 - Ключи активации для windows 8.1 pro. Seo blog werstey. Activation Key Windows 8.1 (x32-x64); 450 RUR; way to pay: WebMoney, Debit or. Ключ активации windows 8 64 bit. Sep 18, 2017 - Если вы решили активировать windows, либо просто найти ключ для активации продукта. Windows 8.1 добавляет в пользовательский интерфейс. Добавлены, свежие ключи для windows 8.1 pro. GCRJD-8NW9H-F2C DX-CCM8D-9D6T9 --------------- подашол для вин 8.1 про 64.
Автор штрихами людских судеб написала портрет этого последнего советского поколения, «подростков, закамуфлированных под взрослых», и, думаю, что ей это удалось, однако почувствовать это во всей мере смогут видимо те, кто был молод в это время сам. Сразу хочу сказать спасибо тем, кто мне эту книгу порекомендовал. Если честно, вообще думал, что порекомендуют привычную для меня классику, ну, в крайнем случае, что-то связанное с историей, культурой, но получил я что-то абсолютно противоположное. Не касался я СССР никогда, только верхами, грубая статистика, факты, но не человеческие судьбы и отношения. Ну, вот не было у нас такого в истории, не было, а в СССР было.
Вот так вот доживаешь до 40 лет, а потом понимаешь, что читал не те книги и не ту литературу, о жизни надо было больше читать, о жизни. Даже как-то грустно стало, задумался. Противоположная культура, противоположные истории и судьбы, эх.
Где же точки соприкосновения? В те годы ещё не родился, спросить о том времени некого, что же делать и как же быть? Аналогий таких не было, но сравнить, тем не менее, есть с чем, что для русского «оттепель», то для меня 80е, взрыв какой-то, перемены в обществе в жизни, что-то меняется, что-то происходит. Вот, кстати, и вопрос недавно поднятый, стоит ли в литературе использовать бранное словцо, Улицкая использовала и даже не один раз. К месту ли это? Не про кисейных же барышень господа пишется. Дворовые мальчишки, а там, уж как выразишься, так и выразишься.
В то время, как страны возрождались после второй мировой войны, СССР восстанавливался как-то странно, не равномерно. В то время, как выжившие мужчины активно восстанавливали демографию страны, в то время как Хрущёв добрался до Вологды со своими сельскохозяйственными познаниями и засадил всё нафиг никому ненужной кукурузой, жизнь дворовой шпаны шла своим чередом. Шатровая интеллигенция московских дворов, выражающаяся отнюдь не нормированным русским матом. Нормы, нормы, куда не плюнь в этой книге, везде нормы советской власти. Что читать, что смотреть, кем работать. Какое творчество, какая фантазия? Работаешь на заводе – слава и почёт тебе, не работаешь там, вопрос, почему не работаешь?
И как в такой атмосфере кого-то взращивать и надо ли было. Вырастил учитель 3 ребят. Нет, не как в сказке, где было 3 брата 2 нормальных, а один дурак. Но стоило ли взращивать в них доброе и вечное, если, как сказано «нет, это не они были не правильные, это страна была не такая».
В какой-то мере – да. И страна не та, и условия жизни не те. Каждый свой выбор делает – Миха, Саня и Илья, трое вышедших из шатра. В книге Улицкая 2 раза говорит про этот зелёный шатёр. Уж не знаю, имеет ли это какое-то отношение к религии, поскольку шатёр в Библии используется как убежище Бога. Сказал бы нет, но тонкая линия религиозности в атеистической стране всё же говорит о том, что наверно я на верном пути. По аналогии – шатёр в детстве их учитель, который не дал скатиться этим парням и просто не деградировать.
Литература, в какой-то мере, спасла их от преступности в чистом роде. Они не стали преступниками, не опустились в своих глазах, совершали лишь преступления в глазах государства. Второй раз этот шатёр появляется уже в конце, когда идёт сон Ольги, когда она видит зелёный шатёр избавления. Не взаимосвязаны ли они? А разве не с одного и того же начинается жизнь и не тем ли же заканчивается? Человек рождается беспомощным и умирает беспомощным.
В детстве шатром являются родители, учителя, а в более позднем возрасте избавлением от всего является шатёр смерти. Какого влияния больше жизни или смерти? Юный и молодой зелёный шатёр, детскость какая-то. Дети выросли, но остались теми же детьми.
И эти раздробленные истории с переходом от одного персонажа, к другому не просто так. Жизнь она не бывает исключительно ровной, жизнь это хаос. А эта троица так и осталась подростками, какие-то идеи, которые не исчезли, которые не вызрели, юношеские порывы стремления, когда уже и не 25 и даже не 30 лет, и жизнь их такая же – меняющиеся женщины, меняющиеся отношения. Только цели прежние. Права была Нюта, говоря, что выпускает в свет неоперившихся птенцов. И был не прав их преподаватель литературы. Не то он взращивал, не.
Не для этой страны он растил детей, он привил им любовь, стремление, но не сказал, как им пользоваться. Да, они стали людьми, живущими своими мечтами, но эти мечты было невозможно реализовать. Свободное плавание личностей, которые пребывают в мире грёз. А по сути это утопия, не больше, не меньше. Произведение меня шокировало, но пока не знаю, в хорошем или плохом смысле.
Скорее произвело впечатление потому, что я не читаю подобную литературу, потому что я никогда не смотрел глубоко в историю других стран. Столкновение культур, ни больше, ни меньше. Интересное произведение, непривычное, непоследовательное. Минус ли это? Неа, плюс и очень уверенный, если честно, то придраться особо не к чему. Даже жалко, не покритиковать. Шучу, шучу, скажу, что в каких-то местах было слишком жизненно, а в каких-то попахивало самогоном.
Литераторы называют это бытовым романом, в каких-то местах уж очень бытовой. Даже чувствуется запах накрахмаленного белья и шуршащих тараканов. Всегда интересно прочитать про то, с чем ты никогда не столкнёшься и вряд ли увидишь.
Одно но, утрировано как-то, возьмём например постельные сцены, главное написанные к месту, но таким языком, до которого пока никто ещё не додумался. А, хотя в СССР же секса вроде как не было, поэтому приближенная действительность, кроме как шуршание в углу да скрипичная музыка никак и не обозначить.
А вот начало и конец, как-то непонятно, даже перечитав начало, так и не понял, про кого шла там речь и про. Остальное всё, вроде как, гармонично. И тебе подпольщина и судьбы героев. Но чего-то автор не сказала, утаила, какие-то пробелы не заделала. Мысль есть, мысль вертится в воздухе, а потом улетает, как сдувшийся шарик.
Родился, жил и умер и это всё? Попытка на 5, осуществлено на 4 с минусом. Почитать можно, не скучно от книги и это главное, читабельно. Всем не всем читать, это уж сложно сказать. Читайте, поймёте. Прочитано в рамках флэшмоба по рекомендации LittleDorrit.
«Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком».
Пастернак — В. Шаламову, 9 июля 1952 года (предисловие к книге 'Зеленый шатер') К современной «интеллектуальной прозе» я отношусь с большой осторожностью. Очень уж часто за облаком «охов» и «ахов» скрывается мыльный пузырь, замечательный лишь своей способностью мутно отражать реалии.
Причем, чем гротескнее и уродливее отражения – тем, по общему мнению, мудрее и тоньше автор. Как ни прискорбно, но в наше время кривые зеркала, особенно развернутые «лицом» в прошлое – это национальная забава. Однако, после некоторых колебаний, я все же дала любопытству взять верх над моими суеверными опасениями. Яблоком, введшим меня во искушение, стал роман «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой. Имя Улицкой я неоднократно встречала на форумах книголюбов, где качество ее прозы оценивается очень по-разному - от «живой классики» до «приступов графомании».
Меж критики, откровенно голословной, и на первый взгляд основательной, в интернете рассыпано много слов о прекрасном языке, изящном сюжете и глубокой смысловой наполненности ее книг. Анонс, выведенный на обложке, манил обещанием чудес, и прямо-таки фонтанировал цветистыми эпитетами: неизвестный рецензент обещал ни много ни мало «швейковский комизм», «высокую трагедию» и (фанфары) «Бронебойную ироничность». Ну как тут было пройти мимо?
Первым откровением стала тематика книги. Признаться, меня порядком удивило, что писательница, славная «изяществом сюжета» выбрала изъезженную вдоль и поперек тему диссиденства и Советской власти.
Этот предмет опошлен до уровня моветона: сказать что-то по-настоящему достойное о вопросе, который ежедневно и еженощно муссируется на всех уровнях в течение десятков лет невероятно сложно. Для этого нужно обладать исключительным талантом, иначе произведение превратится в жонглирование политическими штампами и мумифицированными фактами. Такого рода эквилибристики в фонде русской и «частично русской» литературы скопилось изрядное количество; пробиться сквозь эти вековые залежи - задача почти невыполнимая, и потому смелая. Фабула проста и безыскусна – в центре повествования три мальчика - Миха, Саня и Илья, соединенные волею случая детской дружбой. Писательница, как парка, ткёт их судьбы и истории, связывая их с судьбами и историями других людей, плетет узоры - взросление и становление, любовь, жизненный выбор, надлом и наконец, смерть. Основное действие развивается в Стране Советов, точкой отсчета служит 5 марта 1953 года - день смерти Сталина. Описание траурного шествия, пожалуй, одно из самых динамичных мест в книге.
Но свежим этот ход назвать нельзя – смерти и похорон Сталина касались в своих произведениях Аксенов, Рыбаков, Радзинский; у всех на слуху подробные воспоминания Евгения Евтушенко об этом событии, им же в 1990 году был снят одноименный фильм. Возникает закономерный вопрос, который так и остается без ответа - каков смысл столь очевидного повторения? Никаких новых граней, освещая этот вопрос, Улицкая не открывает. Один из китов, поддерживающих идейно-смысловую структуру книги на плаву – проблема сосуществования людей и режима. Каждый из главных героев пребывает в открытой или латентной конфронтации с последним.
Никого не минует чаша сия. На протяжении романа всех политически нейтральных персонажей режим выдавливает из страны, а иногда и из жизни, словно пасту из тюбика. Ложа автора находится НАД героями романа и его событийной канвой. Автор не вовлечен в описываемый процесс, он незримо присутствует в повествовании в качестве своеобразного мерила, или компаса, время от времени обнаруживая себя в ремарках и небольших отступлениях. Формально это присутствие выражается в сарказме, «качелях» текста и подтекста, обилии оценочных эпитетов, небольших абзацах – резюме.
На них остановлюсь подробнее - эти подытоживающие блоки, в которых автор упорно и даже несколько менторски обозначает свою позицию, вызывают сначала недоумение, а после уже и утомление – они ограничивают свободу оценки и выводов читателя, и выглядят как заплатки, прикрывающие «недотянутый» по смыслу текст. Ситуация весьма напоминает урок литературы в детском саду. По какой причине писательница столь грубо вмешивается в течение повествования, опять же остается загадкой. Самоочевидно, что качественный реалистический текст, на звание которого претендует «Зеленый шатер», не нуждается в дополнительных внесюжетных пояснениях, они разрушают его структуру и рвут нить диалога героев с читателем. Место автора, являющегося органической частью космоса книги, занимает появившийся из ниоткуда писатель - безапелляционный и субъективный человек из XXI века. Важно заметить, что позиция «над» очень уязвима, хотя, без сомнения, максимально выигрышна. Она требует постоянного идейного тонуса текста.
Иначе произведение имеет все шансы превратиться в одноцветное малевание. Помимо того, такая «самокоронация» предполагает высочайший уровень мудрости писателя обязательным условием: нравственное равенство или превосходство автора и его достойнейших героев должно быть очевидным.
Альтернативой этому может служить максимальная объективность авторской оценки. Однако в данном случае выбор подхода удивляет – повествователь вопиет о своем «над-присутствии» повсеместно, но при этом ничем фактически не мотивирует выбор такого ракурса: объективность подменена предвзятостью, а мудрость – едким анализом ради анализа. Больше всего роман напоминает лоскутное одеяло – несколько десятков разнокалиберных и разномастных кусочков, связаны двумя главными смысловыми нитями и под-над-текстом – советское время было страшным временем, а советская власть - абсолютным злом. Изначальный посыл, высокий тон, заданный предисловием – цитатой из Пастернака, к середине книги теряется из виду, заглохнув в буераках сюжетных перипетий.
Так гаснут, недозвучав и главные смысловые аккорды романа. Взятые в первой половине книги, они вступают в резонанс с текстом лишь несколько раз, и умолкают, оставив после себя ощущение незавершенности.
Первый такой аккорд - «Имаго» - аллегория из биологического мира - взрослая особь насекомого, преодолевшая личиночную стадию; и как обратная сторона медали – неотения, которую Улицкая устами учителя ребят, Виктора Юльевича диагностирует свои героям и многим другим детям эпохи - воспроизводство личинками личинок, неспособных к взрослению. Эта аллегория проходит через весь роман, с каждой главой становясь все более аморфной. Например, тот самый Виктор Юльевич – раскрылись ли его крылья? «Гениальный неудачник» - характеризует его Илья. Да, задуманный труд об инициации так и «ушел в воздух», но как же война, которую он прошел не сломавшись внутренне, ученики, которым он смог привить любовь к литературе, их доверие и уважение, оставшееся на долгие годы после выпуска? «Маловато будет»?
Спорно, как мне кажется. Второй смысловой аккорд - «Зеленый шатер» - остается весьма туманным – это и смерть, которая уравнивает всех, и при всем том некое освобождение – бегство – путь. Мотив бегства – несомненно, один из центральных в романе. Практически все главные герои бегут, мечтают бежать, или страшатся этого бегства – во всех смыслах: и прозрачном - эмиграция, и аллегорическом – бегство из «жмущей» реальности в иную: музыку, книги.
Об авторской оценке героев следует поговорить отдельно. Иронии, обещанной в предисловии, в книге не так много. Зато есть уже упомянутая язвительность, сарказм, часто на грани глумления – завуалированный, но постоянно «висящий» над текстом. Сквозь флер описательных оборотов, окутывающий Саню, Миху, Илью, Оленьку, «Бринчика» проглядывают те самые «единицы», не биологические даже, скорее синтетические – очень уж собирательными и блеклыми выглядят герои. Единственный прописанный портрет романа, пожалуй, Нюта – интеллигентная бабушка Сани Стеклова, и по совместительству, муза Михи, но и она очень и очень условна: жизнь, мысли и переживания Анны Александровны вынесены за кадр. Она как статист, появляется на сцене только чтобы должным образом оттенить переживания внука, или Михи. Вообще, какие бы то ни было теплые чувства Улицкой по отношению к персонажам вызывают большие сомнения.
Часто кажется, что все без исключения герои провоцируют у нее разлитие желчи. Это замечательно отражено в психологизме романа – его впору назвать «физиологизмом». Полускрытый, но постоянно присутствующий в тексте анализ поступков, мыслей, чувств, при ближайшем рассмотрении очень напоминает отчет патологоанатома. Ухвачены и систематизированы структурные составляющие – тут тебе и пряные детальки, смакующиеся с особым шиком - потные объятия в чуланчике, тисканье с Минной, и трагедия духовного порядка - кризис неспособности созидать, и высушенная, наколотая на булавку музыка, и проницательные замечания о гормонах и их влиянии на эмоции, но вот душа, сокровенная субстанция, делающая человека человеком – ах! – ускользнула.
Легкие, виртуозно выписанные отступления, посвященные музыке, разительно контрастируют с лишенной красок плотью романа. Столь же инородно выглядит одна из первых сцен - Миха, которому Нюта дает читать Евангелие.
В контексте общего градуса сарказма в книге, такие, лубочные, вставки выглядят грубовато. Теперь немного о языке. В большей части книги стиль повествования, на мой взгляд, достаточно пресен.
Причем речь не о не чеховской простоте и стройности, и не о ремарковской лаконичности, нет; изобразительных средств в тексте достаточно, и если рассматривать их вне романа, они могут вызвать интерес - и свежо, и остро. Но стоит вернуться к контексту – и происходит какая-то странная стилистическая реакция – прочитанное не оставляет вкуса, так, словно жуешь вату. Есть сильные фрагменты, отточенные и цельные - например, описание бесед ЛЮРСОВ, или банный день у старух, но по-настоящему, как ни парадоксально, Улицкая 'расписывается' только в сценах смерти героев. Почему- то лишь в момент ухода из жизни персонажей, выясняется вдруг, что они таки - жили. Роман, практически бесцветный, обретает краски – из серого тумана выплывает символический зеленый шатер, алые петушки ярким дождем падают на пол, тонкая рука застывает в печальном изломе, с шелестом раскрываются графично - сетчатые крылья. В тоне повествования проскальзывает нотка печали, тоски, и как по волшебству откуда-то появляется долгожданная эстетика – пришедшая вместе со смертью.
По прочтении книги остается ощущение незаконченности, «скомканности». Некоторые кусочки лоскутной мозаики живо напоминают колонку «ваш психолог» из популярных женских журналов – стоит вспомнить хотя бы историю Оленьки. Кроме того, после фактического ляпа, встретившегося в тексте - вскользь упомянутого “Тулу сдали” – у меня возникли сомнения и по поводу исторической достоверности некоторых эпизодов: Тула, как известно, сдана не была. Думаю, некоторые сочтут, что многое из перечисленного можно было бы списать в счет лирических отступлений, остроумных метафор, достаточно тонких наблюдений, проскальзывающих в книге. И я бы с этим согласилась, только вот есть одна важная деталь, которая, на мой взгляд, все меняет.

Книгой 'Зеленый шатер' автор, по сути, взял на себя смелость и ответственность вынести вердикт целой эпохе. Однако, преодолеть границы предвзятости, он, увы, так и не сумел. И если в отношении сталинизма такую позицию внучки репрессированного вполне можно понять, то во всех остальных случаях однозначность и максимализм в суждениях зрелого автора ставят в тупик. Субъективное беззастенчиво подается под соусом объективного.
Книга Улицкой Зеленый Шатер Читать Онлайн
Выводы, сделанные Улицкой грешат очевидной однобокостью. В «Зеленом шатре» мы видим срез судеб оппозиционеров и потомственных интеллигентов Московского розлива, преимущественно евреев. Я вполне допускаю, что в их отношении вышеупомянутые резюме справедливы и выстраданы. Однако Улицкая говорит о своих героях как о типических личностях того времени, тактично не упоминая о том, что кроме Москвы – государства в государстве - всегда была 'вся остальная Россия'. Были и другие люди, которые несли свое служение - делали дело: лечили, воспитывали, кормили, защищали. Многие из них были счастливы – не таким искусственным счастьем, которое описывается Улицкой, нет.
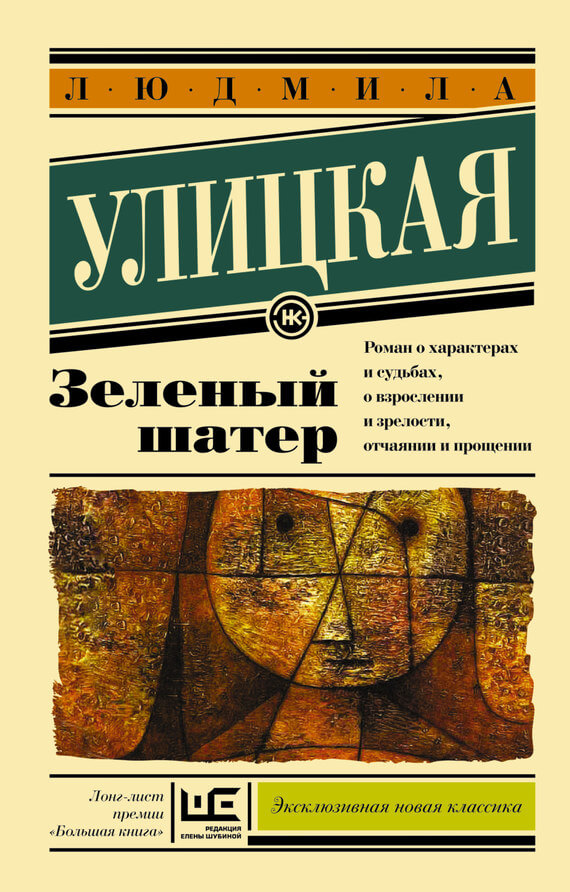
Да, они не распространяли самиздат, позиционируя эту деятельность как геройство, не сидели за идеал свободы слова, нет, они просто совершали ежедневные мелкие подвиги. Подвиги, на которых часто и держится жизнь. Но эти люди явно не заслужили внимания писательницы - они упомянуты только в качестве 'массовки' - вяло выведенные картонные герои без лиц и имен.
Конечно, автор вправе выбирать о ком писать. Но поставив такую высокую задачу, как оценка времени, ни разу не упомянуть о существовании другого полюса - значит сознательно погрешить против истины.
Абсолютно незаслуженно обойден вниманием и феномен советских романтиков – явление уникальное и для пресыщенного Запада, и для нашей долгожданно-свободной современности. Вообще, очень симптоматично, что слово «романтика» как эмоциональная характеристика в произведении используется лишь один раз, и даже там оно снабжено тяжеленькой биркой со словом «фальшивая». Уже когда последняя страница «Зеленого шатра» позади, в душе долго остается осадок беспросветности, словно после пробуждения от серого тягостного сна. Улицкая сознательно осветила только те углы Советской действительности, в которых скопилось побольше сора, и с триумфом пронесла его сквозь долгих пятьсот страниц, не затруднив себя попытками описать картину цельно и непредвзято. И этим сослужила своему детищу скверную службу. Отказавшись от претензий на роль истины в последней инстанции, сбросив менторство и максимализм, как хитин, роман мог бы стать прекрасной бабочкой - той самой обещанной «высокой трагедией» судеб людей, попавших в капканы жизни – тема, без сомнения, достойная высокой классики.
Но – увы Как тут не вспомнить слова Николая Майорова, поэта, погибшего в сорок втором под Смоленском: «Пройдут века, и вам солгут портреты, Где нашей жизни ход изображен». В завершение хочется озвучить еще один вопрос, риторический, подобно всем прочим, заданным в рецензии. Почему-то так складывается, что российские писатели, идущие в авангарде современного литературного процесса, пишущие о смелых диссидентах, угнетаемых правдолюбцах, принципиальных оппозиционерах, над которыми попутно и похихикивают, выбирают для своего творчества очень удобную нишу – накатанную колею критики прошлого, где все акценты давно расставлены.
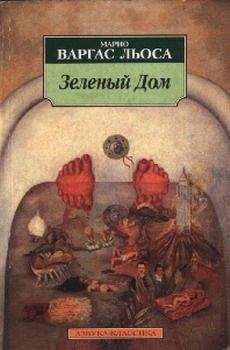
Без конца пополняя список того, что им когда-то недодали, они словно живут в одном времени - прошедшем. Ни один из «корифеев» русской современной прозы, мелькающих в СМИ, книжных обзорах, престижных литпремиях и прочем, так, увы, и не создал цельного и серьезного произведения, критически, глубоко анализирующего современность.
Оставим скобку открытой.